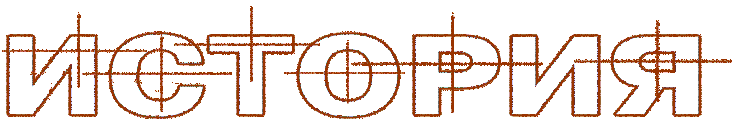Наши проекты
Обсуждения
Корни и плоды Просвещения
Вестфальский мир 1648 года, закончивший Тридцатилетнюю войну — последнюю религиозную войну между христианами в Европе1,— зафиксировал со всей определенностью окончательный крах планов католической контрреформации решить в свою пользу конфликт с протестантизмом и восстановить религиозное единство Западной Европы (протестантская сторона не ставила себе такой цели, возможной только в случае полного сокрушения противника). Тем самым был положен конец и попыткам установления гегемонии одной из держав в рамках и с использованием обстановки, создаваемой этим вековым конфликтом. В западной литературе выдвигалось предложение ввести понятие войны, изменяющей систему международных отношений, в отличие от остальных вооруженных конфликтов2. Войны вековых конфликтов неизменно были направлены на достижение такого результата.
Полтора столетия, протекшие с Вестфальского мира, характеризуются относительной стабильностью созданной системы международных отношений. Войны второй половины XVII и XVIII веков, включая войны за испанское (1700—1714 гг.) и австрийское (1740—1748 гг.) наследство и Семилетнюю войну (1756—1763 гг.), лишь вносили в эту систему частичные изменения, связанные с прен ращением России в первоклассную европейскую державу, усилением Пруссии и разделами Польши, с решением в пользу Англии ее соперничества с Францией за колониальное и морское преобладание.
Характерным для XVIII века (до 1789 г.) было то, что на военное время пришлось значительно меньше лет, чем в XVI и XVII веках. Ни одна из держав, поскольку речь шла о европейских делах, не могла ставить и не ставила внешнеполитических целей, которые вели бы к ликвидации другой крупной державы, кардинально подрывали бы «систему европейского равновесия». Они нигде не преступали рамок непосредственных выгод, территориальных приращений, обычно «компенсировавшихся» расширением и усилением других основных государств. Правда, тем самым относительная стабильность системы равновесия достигалась жертвой интересами малых стран. Однако в большинстве случаев речь шла о чисто династических образованиях (какими были большинство германских и итальянских княжеств), и их частичное включение в состав более крупных держав — особенно если при этом речь шла об этнически близком государстве — отнюдь не всегда могло быть негативным фактором. (Исключением являлись, конечно, разделы Польши, но и то лишь собственно польской территории, а не украинских и белорусских земель, вхождение которых в состав России способствовало процессу воссоединения украинской и белорусской народностей.)
Профессор Л. Халле, которого приходилось упоминать выше, писал: «Когда в 1648 году закончилась Тридцатилетняя война, население Европы было измучено целым столетием вооруженной борьбы. Религиозные вопросы, которые доставляли повод для этой борьбы, оставались все еще не решенными. К этому времени бедствия войны превратились в нормальное состояние жизни народов, которые давно улсе не знали ничего иного. Поэтому в 1648 году потребовался бы крайний оптимизм для предсказания, что отныне войны в Европе на протяжении по крайней мере полутора веков будут значительно больше напоминать военные игры на маневрах, чем то, что было известно в течение столь длительного времени. И тем не менее такое предсказание было бы верным»3. Сама характеристика эпохи у Л. Халле страдает «крайним оптимизмом», но в ней есть и верные наблюдения.
Экспансионистская политика, заложенная в самой природе буржуазии, превращала войны в непременного спутника капитализма. Среди этой массы захватнических войн значительная часть была столкновением с государствами, имевшими другой социальный и политический строй. В определенном смысле и эти войны являлись противоборством социальных систем на международной арене, но. они велись не ради контрреволюционных или революционных целей, а исключительно ради завоевания, экономической эксплуатации чужих стран и народов — точно так же, как и войны между странами с одинаковым типом социального и политического устройства. Строго говоря, таким немирным противоборством между социальными системами являлась и вся грабительская колониальная экспансия феодальных и капиталистических держав. Тем не менее изменения были большими.
«Люди Просвещения более не рассматривали войну как неизбежное предназначение человечества, как судьбу, удары которой следует переносить с терпением и мужеством. Экономисты XVIII века перестали видеть в войне единственный источник богатства, что казалось несомненным для их предшественников в XVII столетии»4. Религиозные и династические интересы потеряли прежнее относительно самостоятельное значение. В середине XVIII ^века Койер, автор сочинения «Торговое дворянство», писал, что «европейская система претерпела изменения и интересы торговли фигурируют в международных договорах как государственные интересы». А дворянский политический теоретик Бугенвиль замечал, что «торговый баланс стал балансом сил государств»5. Войны XVIII века иногда называют «торговыми войнами». В 1776 году А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» писал, что капризы честолюбия королей и министров не были столь роковыми для мира в Европе, как «дерзкая зависть» купцов и мануфактуристов. И все же можно согласиться с мнением тех историков, которые считают, что в полтора столетия после Вестфальского мира «ведение войн отличалось более умеренным характером»6.
Войны XVIII века велись армиями, состоявшими из солдат, годами подвергавшихся обучению и не могущих быстро быть замененными зелеными новобранцами. Армии стоили слишком дорого, чтобы часто рисковать ими в крупных сражениях и вести эти сражения так, чтобы они приводили к слишком большим потерям. Так же как в средние века война считалась дворянским занятием, теперь ее рассматривали как дело профессиональных армий. Предполагалось, что население не должно ни прямо, ни косвенно участвовать в войне, как бы оно ни относилось к ее целям. В эти цели не входили тотальное поражение другой стороны, уничтожение ее военного потенциала и ее самой как фактора европейской политики, оккупация ее территории, изменение государственного строя или религии. Войны (пожалуй, за частичным исключением войны за испанское наследство на ее конечном этапе для Франции) велись без использования всех возможных материальных ресурсов. Державы, особенно ран-небуржуазные государства, обычно шли на расширение рамок конфликта лишь при условии, что оно не оказывало прямого негативного воздействия на хозяйственное положение страны, даже на изменение экономической конъюнктуры. Этому ограничению рамок конфликта немало способствовало также и то, что сражения между главными соперниками в борьбе за колонии — Англией и Францией — развертывались вне Европы, что само по себе при существовавших тогда возможностях снабжения ставило пределы масштабам военных операций. Хотя статистических данных здесь привести невозможно, не подлежит сомнению, что в XVIII веке несравнимо меньшая часть национальных ресурсов использовалась на военные нужды, чем в предшествовавшие столетия, заполненные до предела вековыми конфликтами. И в этом несомненно одна из главных причин быстрого экономического подъе-ема Европы, насколько он был вообще возможен в рамках феодального строя, развития капиталистического уклада и даже появления первых признаков промышленной революции, которая, однако, могла широко развернуться только в буржуазной Англии.
Почему, однако, Англия в XVIII веке победила в борьбе против Франции за колониальную морскую гегемонию? Если отбросить ссылки на прирожденные качества англичан, обеспечивавшие им успех на море (эти качества почему-то не проявлялись в доелизаветинской Англии), то объяснение в том, что быстро развивавшейся буржуазной стране было предопределено одержать верх над страной феодальной. Это объяснение, несомненно верное в своей основе, все же не дает ответа на вопрос о более непосредственных причинах поражения Франции. Ведь остается несомненным, что и во Франции быстро развивался буржуазный уклад, материальные ресурсы которого могло использовать абсолютистское правительство. И хотя доход на душу населения был во Франции заметно ниже, чем в Англии, первая превосходила вторую примерно втрое по численности населения. И по крайней мере до начала промышленной революции, то есть до 60-х годов XVIII в., не приходится говорить о техническом превосходстве Англии, которое нашло бы отражение в военном деле. Следовательно, действие глубинной причины (победы буржуазного строя в Англии) проявлялось какими-то иными путями. Внешняя политика раннебуржуазного государства должна была в значительно большей степени, чем государства феодального, быть нацеленной на обслуживание интересов буржуазии, при отодвигании на задний план всяких других (в частности, династических) мотивов. Это позволило Англии сосредоточиться на достижении колониального и морского преобладания, тогда как Франция Людовика XIV наряду с этой целью во главу угла ставила осуществление планов преобладания в Европе. Но геге-монистские планы должны были натолкнуться — и натолкнулись — на активное сопротивление других держав, что давало Англии широкие возможности воевать чужими руками, используя своих континентальных союзников «в качестве хорошей пехоты». Другими словами, то, что Франция унаследовала от Габсбургов притязания на господствующее положение, по крайней мере в западной части Европейского континента, было одной из причин ее поражения в борьбе с Англией. А поскольку в определенном смысле эти планы объективно направлены на консервацию феодального строя, поражение страны, являвшейся носителем этих планов, было крахом попыток воспрепятствовать утверждению одновременного существования государств с различным социальным строем в Европе.
Столетие, предшествовавшее Великой французской революции, нередко называют веком просвещенного абсолютизма. Бросается в глаза, что эту «просвещенность» он приобрел с затуханием одного военного конфликта и потерял с началом другого.
Окончание еще в середине XVII века векового конфликта оказало разностороннее воздействие на всю эпоху Просвещения. Конечно, не отсутствие векового конфликта само по себе сделало возможным Просвещение. Однако эта «свобода» от конфликта ускорила вызревание просветительских идей, создала условия для их быстрого распространения, обеспечила им общеевропейский резонанс, в том числе и в странах, где новые буржуазные отношения переживали самый начальный период своего развития.
В «век Просвещения» отсутствуют требования религиозного, политического (единообразия формы правления) и социального униформизма как условия поддержания нормальных отношений между государствами. Небезынтересно отметить, что, наоборот, в Англии через призму соперничества с Францией и другими государствами стоявшие у власти привилегированные слои буржуазии с настороженностью наблюдали рост капиталистического уклада в странах континента и даже развитие там буржуазной идеологии. Следование английскому примеру вызывало не удовлетворение, а скорее опасения, что такое «подражание» может привести к усилению торговых конкурентов. Недаром даже печать в 60-е годы XVIII в., приветствуя идеи знаменитой «Энциклопедии» Дидро и Даламбера, добавляла: «Мы, как англичане, не имеем основания радоваться постепенному распространению этой системы идей у наших соперников»'.
Вместе с тем деидеологизация международных отношений подтолкнула просветительскую мысль к критике мотивов, которыми определялась внешняя политика европейских государств. Свобода от векового конфликта позволила идеологам Просвещения, обгоняя свое время, минуя целые эпохи всемирной истории, поставить проблему избавления общества от войн, установления цивилизованных отношений между народами как единственно соответствующих истинной природе человека.
Отсутствие векового конфликта наложило свой отпечаток на всю систему идей Просвещения. Так, например, разрыв во второй половине XVII века в общеевропейском масштабе связи между столкновениями религий и отстаиванием национальными государствами своих интересов, а также борьбой за национальную независимость немало способствовал усилению антиклерикальной направленности идеологии Просвещения.
Не в меньшей степени это сказалось и на развитии феодальной государственной надстройки. Отсутствие векового конфликта создало самую возможность такого феномена, как просвещенный абсолютизм. В былое время прогрессивная роль абсолютизма проявлялась, в частности, в выведении страны из векового конфликта или включении ее в прогрессивный лагерь в рамках этого конфликта. Хотя в XVIII веке (до 1789 г.) прогрессивная роль абсолютизма отошла в прошлое, она порой как бы возрождалась, что было связано с отсутствием векового конфликта. В определенной степени это относится и к внутренней политике абсолютизма, который мог стать «просвещенным» только потому, что над ним не нависала тень векового конфликта. Реформы просвещенного абсолютизма, являвшиеся объективно превентивными мерами против надвигавшейся революции и вместе с тем уступками требованиям буржуазного развития, могли проводиться только в таких «международных условиях» функционирования европейских монархий. Это же следует сказать и о внешней политике абсолютизма, что особенно проявилось в годы американской революции.
Вопрос о любой форме контрреволюционного интервенционизма даже не возникал. Просьба английского короля Георга III о посылке 20-тысячного корпуса в Америку была сразу же отвергнута Петербургом, где события в Новом Свете рассматривались через призму англорусских отношений и возможного влияния провозглашения независимости колоний на европейскую политику. В ответном письме английскому монарху, посланном 23 сентября (4 октября) 1776 г., Екатерина II даже не без скрытой иронии писала о возможных неблагоприятных последствиях «подобного соединения наших сил единственно для усмирения восстания, не поддержанного ни одной из иностранных держав». А летом 1779 года в секретном докладе Коллегии иностранных дел, выражавшем мнение первоприсутствующего Н. И. Панина и вице-канцлера И. А. Остермана, прямо отмечалось, что английские колонии в Америке превратились «собственной виной правительства Британского в область независимую и самовластную»8.
Единственно, на что мог рассчитывать Лондон,— это на военное содействие второстепенных держав в обмен на компенсации политического или чисто финансового характера (как при покупке солдат у германских князей). На деле же с самого начала речь шла о вооруженном выступлении монархических держав Европы не против, а в поддержку восставших колоний.
Даже колебания французского правительства в вопросе о поддержке колонистов были лишь в довольно слабой степени связаны с идеологическими мотивами. Более весомыми причинами были сомнения в способности колонистов выстоять в борьбе против метрополии, опасение непосредственного вовлечения Франции в военные действия, крайне нежелательного из-за плачевного состояния финансов, наконец, надежды на то, что Англия будет готова щедро заплатить за французский нейтралитет и тем самым позволит Парижу без боя взять реванш за поражения в Семилетней войне (1756—1763 гг.), и т. д.
Европейские державы учитывали, что на долю колоний приходилось почти 40 процентов английского торгового флота, и они явно опасались американской конкуренции в Западном полушарии. Особенно озабочена была Испания, имевшая огромные владения в Новом Свете. В Париже тоже ощущались скрытые опасения в связи «с американскими планами завоеваний»9.
Французский посол в Мадриде Монморен писал 12 ноября 1778 г. Верженну, министру иностранных дел, что Испания считает объединенные колонии своим возможным противником в недалеком будущем и далека от того, чтобы допустить приближение американцев к границам своих владений в Новом Свете. Верженн в ответе Монморену от 27 ноября 1778 г. пытался рассеять эти страхи, полагая, что трудно считать, будто Англия представляет меньшую угрозу, чем новое американское государство, которое обречено быть конгломератом слабо связанных между собой и разделяемых противоречивыми интересами штатов10. Стараясь вместе с тем успокоить поборников «священного права монарха», Верженн не очень убедительно уверял, что, поскольку, мол, колонисты провозгласили независимость, они уже не являются подданными Георга III и могут выступать как союзники иностранной державы". Оправдывая союз с США, французское правительство разъясняло монархической Европе, что оно лишь предотвратило англо-американский союз12. (Стоит отметить, что к этому времени во внутренней политике французский абсолютизм сделал выбор в пользу реакционного курса, отказавшись от либеральных реформ Тюрго.)
Характерный штрих: когда в 1776 году в Америку отправились французские добровольцы во главе с маркизом Лафайетом, они руководствовались не столько симпатиями к идеологии колонистов, сколько стремлением бороться за «свободу морей» — иными словами, против преобладания Англии на море13.
В отличие от своей формальной союзницы Франции, Австрия с целью угодить Лондону подчеркивала «непризнание» восставших колоний. Император Иосиф II заявил британскому послу в Вене Роберту Кейту: «Дело, в которое вовлечена Англия, является делом всех государей, имеющих общую заинтересованность в поддержании должной субординации и повиновении закону во всех соседних монархиях. Я наблюдаю с удовлетворением могучие проявления национальной мощи, используемые (английским. — Авт.) королем, чтобы привести в покорность мятежных подданных, и я искренне желаю успеха принятым мерам»14. Однако на практике монархическая принципиальность Иосифа II свелась к неудавшимся попыткам извлечь выгоды из сложившейся обстановки, выступая в роли посредника между воюющими сторонами.
По мнению ряда новейших американских исследователей (например, высказанному В. Стинчкомб в опубликованной в 1969 г. монографии «Американская революция и союз с Францией»), колонисты вряд ли добились бы победы без помощи европейских государств. По подсчетам профессора М. Смелсера, общая сумма субсидий, которые американцы получили от своих союзников, в переводе на современные деньги составляла примерно 2,5 миллиарда долларов, а сами израсходовали на борьбу 1 миллиард долларов 5. Из-за границы (т. е. из Франции) колонисты получали 90 процентов нужного им пороха до битвы при Саратоге. В 1777 году Франция поставила колонистам 30 тысяч ружей — огромная цифра, если учесть тогдашние масштабы военных действий'6.
Только при «психологическом климате» эпохи, свободной от векового конфликта в сфере международных отношений, могли стать во всей монархической Европе образцами гражданского долга и политической мудрости вожди революции Бенджамин Франклин и Джордж Вашингтон.
Несомненно, что опыт международных отношений времен Войны за независимость был всесторонне учтен первым американским президентом Вашингтоном, когда он в своем знаменитом «Прощальном послании к нации» предлагал развивать мирные отношения и сотрудничество со всеми странами, а речь ведь шла прежде всего о европейских государствах, имевших в своем большинстве отличный от США общественный и политический строй.
При антиисторизме, присущем в целом Просвещению, его выдающимся представителям свойственно замечательное историческое чутье, породившее многие глубокие, блестящие замечания Вольтера или гениальные догадки Руссо о происхождении строя неравенства. Просветители бескомпромиссно осуждали прошедший вековой конфликт, в котором для них, как в фокусе, воплощались все пороки существовавшего общественного строя, его прошлое, рисовавшееся им эпохой варварства и суеверий.